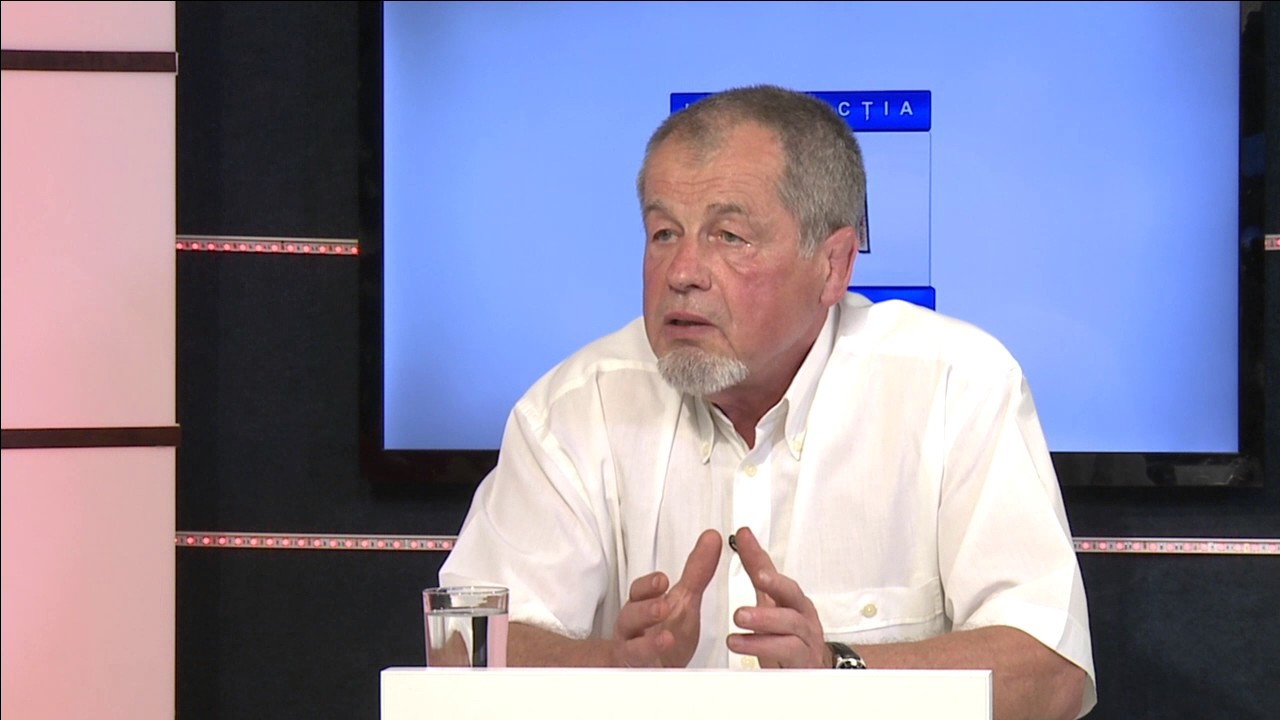Эфраим Баух: «Бесстрастность Времени вечна…»
.

В 2020 году не стало Эфраима/ Ефрема Бауха – выдающегося писателя мирового масштаба, поэта, переводчика. Он создал уникальный цикл романов из 7-ми томов, в которых впервые в литературе глубоко и художественно исследовал историю еврейского народа. Нас с Эфраимом связывала многолетняя дружба, охватившая не только кишиневский период – она продолжилась и после его переезда в Израиль. Наследие Бауха пронизывает его тяга к Молдове и любовь к исторической родине – Государству Израиль, воспоминания о былых временах, старом укладе жизни и восприятие новых людей, места, его Величества Времени. С каждым годом растет число поклонников таланта Ефрема Бауха. Сегодня вниманию читателей мы предлагаем последнее интервью нашего Великого земляка израильской журналистке Галине Маламант.
— Эфраим, вроде совсем недавно я брала у вас интервью, а пролетело десять лет. Многое изменилось в вашей жизни. Но, насколько я слежу за вашими эссе, постоянно публикующимися в прессе, работа продолжается и кипит…
— Время не летит, а парит. А парение неотъемлемо от падения. Легко ли жить и писать во времени, когда многие близкие и родные — за чертой жизни? Надо быть четырежды осторожным и сверх предела честным, чтобы в приступе намеренной или случайной забывчивости непроизвольно не солгать, неизвестно во имя чего. Этот истинный признак подлости дремлет в складках каждой, тронутой амнезией человеческой души. Вот и я дожил до возраста, располагающего к размышлению о Времени. Движение жизни замедлилось, некуда торопиться. Поэт Осип Мандельштам был явно враждебен ко Времени. Это его строки:
“Ведь в беге собственном оно не виновато,
Да, кажется, чуть-чуть жуликовато…”
Бесстрастность Времени вечна и потому бесчеловечна. Удивительно подумать: быстрый его бег приходит испугом пробуждения. Стараешься это забыть. Но этот страх пробуждения, по сути, от корней самого существования. И хотя он относительно деликатен, но достаточно назойлив.
— Как вам, с высоты ваших лет, видится будущее?
— Грядущее видится некой грядой в тумане. Конечно же, нелегко определить направление гряды, рассекающей время и место жизни. Издали она казалась не такой страшной, ибо скрадывала и скрывала перепады, лощины, провалы и подъемы. Само слово “гряда” намертво связано со словом “грядущее”, хотя первое означает неизменное место, а второе означает будущее, которое может “грянуть” неожиданно.
Но у меня, как еврея, была, как сейчас говорят, опция. И она могла резко изменить грядущее — поставить крест на прошлом и все начать с нового листа. Вернее, скрести с палимпсеста тысячелетия, как соскребают краски со старых картин, и возникает древний истинный фундамент мира и жизни, приблизить даль и вместе с ней печаль неведомого, выбить эту обширную землю из-под ног во имя иного, но долженствующего быть моим, клочка земли.
— Сулил он что-то в грядущем?
— Это было неясно и потому пугающе. Человек вообще переживает грядущее истинно, но не впрок. Но многие годы передо мной стоит и не меркнет фигура великого пианиста Артура Рубинштейна, благословенной памяти. Одиноко стоит он в огромном пустом зале иерусалимского театра. На сцене симфонический оркестр израильского радиовещания.
— Что для вас сыграть, Маэстро?
— “А-Тикву”.
Оркестр играет. Старик стоит, вытянувшись в струнку, и слезы катятся из его глаз. Время сжимает, как шагреневую кожу, не только прошлое, но и будущее, которое дается нам в долг, а расплатиться невозможно. Сцена с великим пианистом обречена всегда вызывать слезы.
— Возникает ли хоть капля жалости по прошлому?
— Время возвращает меня в прошлое, когда, после публикации поэмы о Моисее, я висел между небом и землей, под колпаком и неусыпным присмотром органов. А время катилось, как одинокое колесо у Гоголя — неизвестно откуда и куда. Неожиданно мне открылось, что мир, примыкавший ко мне со всех сторон, отдалился от меня, отстал, стал враждебным. Впервые я понял, что такое не просто одиночество, а — безопорность.
Огоньки грядущего обманчиво мигали, как угасающие головни костра, принимаемые за надежду. И все же они не давали угаснуть надежде.
— А как вы относитесь к бесконечным призывам выдающихся умов “Время, остановись!”
— Смешно, трагично и даже опасно взывать: “Время, остановись!”. Бесшумен акулий бег времени. Вроде стоишь на месте, а несет безостановочно, и не за что зацепиться, ибо, в отличие от пространства, время вертикально, как будто весь мир вместе с тобой падает с высот Вавилонской башни.
Время — не река, текущая по слабому наклону земной поверхности, а рушащаяся с высот водопадом — в бездну, дна которой не видно. И застолбить его нельзя никакими знаками. Все это углубляет и усугубляет одиночество. И спасение только в любви.
— Но ведь говорят: и любовь ветшает.
— К сожалению, будущее, как и все в мире, теряет свою начальную привлекательность, как некогда красочный, а теперь облупившийся фасад. Неожиданно понимаешь с высоты возраста, что уже живешь в ином мире, и он единственно ценен, как свидетель прошлого, с которого, подобно скорлупе, слетело все преходящее, вся суетность ушедших лет. Осталось лишь главное — пусть слегка разрушенные, столпы Событий, скелет Истории.
— Каким первым было событие, потрясшее на всю жизнь?
— Мне было семь лет в июне 41-го года, когда грянула Вторая мировая война. Мы оказались в самом ее эпицентре. Неделю под беспрерывными бомбежками мы бежали из отчего дома — сначала на телеге по мосту через Днестр, затем на товарняке, вернее, на платформе, заставленной ящиками с типографским шрифтом, и зенитками, из которых вели огонь молоденькие бойцы, и, наконец-то, на грузовиках, вглубь России. Бомбили ночью. Всю эту неделю мы жили в отупении. Как только начинался налет, состав останавливался посреди степи, и мы, что называется, “прятались” в чахлых кустиках — “голова в песке, жизнь на волоске”. Впервые и на всю жизнь открылось мне соотношение красоты и гибели — ночное, во всю свою ширь небо, сплошь расцвеченное светящимися цветными нитями трассирующих пуль, вспышками взрывов, сполохами, лучами прожекторов. И при всем этом само небо было устрашающе безмолвным.
— Вы говорите, что к старости все преходящее отсеивается, как скорлупа. Какие же еще столпы, пусть и слегка разрушенные, закрепились в вашей памяти и стали основой стихов и романов?
— Я ведь по первой своей специальности геолог и отлично знаю, что во времени песок спрессовывается в песчаник, а затем преобразуется в мрамор. Но вот странность: пройденные в жизни дороги кажутся мне теперь гораздо длиннее, чем были в реальности.
Если вы говорите о столпах, то два чуда просекли и скрепили мою жизнь — Крымские горы, на которых я занимался геологической съемкой, и город Флоренция — две жемчужины: одна — природы, другая — человеческого гения. Никому не навязываясь, держась замкнуто, но захватывая тебя целиком, они своей Божественной сокровенностью таинственно соединяются с Иерусалимом, поставленным Данте в “Божественной Комедии” краеугольным камнем Мира.
Вынести эти два чуда было на грани невозможности, невыносимости, вечного комка у горла. Но это ни в коем случае не было сентиментальностью. Сантименты, даже если вызывали искрение слезы, были бы слишком мелкой разменной монетой за этот подъем духа и, в то же время, бессилие духа, вызывающие просветление, молчаливую молитву перед этими каменными престолами, созданными природой и гением человека.
Я увидел горы Крыма впервые на горизонте. Они стояли бесстрастные, зная свое величие и силу своего влияния. Это было похоже на колдовство, как они медленно вытягивались, поворачиваясь в пространстве по опоясывающей их то с одной, то с другой стороны дороге, как бы давая себя разглядывать. Громада гор впервые, одновременно отчужденно и бесцеремонно, вторгалась в мою жизнь. В отличие от сибирской тайги, которая сплошным бесконечным массивом деревьев скрадывала склоны и крутые провалы, горы Крыма были обнажены, и, несмотря на высоту, уплощены сверху. Сокровенность им придавали первоначальные татарские названия — гора Чатыр-Даг (Гора-Шатер), Роман-Кош с вершиной Эклизи-Бурун, Демерджи, на которой мне предстояло работать, Караби-яйла с ее подземными потоками, поджидающими гибели беспечного человека.
Горы Крыма, как ленивое чудище, располагались в моей жизни, обещая пересечь, рассечь, просечь всю мою долгую жизнь, мощно и собранно, не мельтеша. Находясь достаточно долго в горах, ощущаешь родственное чувство к этим профилям скал. Даже некие физиономии, которые вначале выглядели мрачными, постепенно обретают приветливый вид. Ты уже не натыкаешься на них, а чувствуешь себя среди них своим.
И еще одно чудо медленно неслось мимо меня — воды реки Днестр. Это был нечаянный дар, первое звучание оркестра жизни. Время в мое пробуждающееся сознание вошло движением больших вод, на которых, не сдвигаясь, лежала лунная дорожка. Воды эти, не зная ни препятствий, ни страха, катили напропалую, и подчинялись лишь наклону земного пространства. Я почти физически ощущал этот наклон.
Великое существование вод, не поддающееся никаким временным угрозам, внушало спокойствие и уверенность в надежности корневых законов природы. Оно давало — пусть на миг — чувство неотъемлемой, самой по себе, ценности жизни.
Вообще ко времени я относился с большой подозрительностью. Ну как иначе можно расценить такие совпадения: 13 января 48-го, в день моего четырнадцатилетия, был убит Михоэлс. 13 января 50-го — был принят закон о смертной казни, а день, когда мне исполнилось девятнадцать — 13 января 53-го, был ознаменован “делом врачей”.
7.7.77 я переступил границу эсэсэрии и репатриировался в Израиль. И сразу в душе проступили истинные родовые линии Времени и Пространства: вертикальная Времени — наслоениями трех тысяч лет, горизонтальная — бескрайней синью Средиземноморья. И открылась новая родовая линия. По одну ее сторону шумно вращал все свои шестерни и колеса первый еврейский мегаполис — Тель-Авив, по другую — солнечно безмолвствовало легендарное Средиземное море, взывая к исповеди.
Сидел я на его берегу, избывая тоску бездарно прожитых лет, боль — от безнадежной рассудительности, неколебимой трезвости, скучной посредственности прошлого существования. Это всегда загадка и печаль, как прихотливо смыкаются обрывки воспоминаний на слабом каркасе времени, воедино скрепляющем человеческую жизнь, переплетая сон и явь и тем самым стереоскопически углубляя зрение.
— Тем не менее, насколько я себе представляю, все ваши романы, особенно семилогия, в зародыше были задуманы в той, как вы говорите, скучной и, в общем-то, угрожающей застенками, деспотической реальности.
— Все эти романы, несмотря на немалые элементы метафизики и мистики, выросли из действительности, казавшейся косной в нашей с годами убывающей жизни, но в итоге изменившейся до неузнаваемости. Разве не было смертельно опасной фантазией даже думать, что оползающий по склону лет юзом советских республик монстр и вправду рухнет в небытие, да так, что само слово “советский” покажется некой абракадаброй из дурного сна? Разве сравнительно недавно не считалось фантастическим предприятием само проживание евреев на Земле обетованной, не говоря уже о создании там еврейского государства с таким для мира провокационным названием — Израиль?
Выстраивая в течение десятилетий структурное пространство текста, опоры которого изнашиваются и разрушаются намного легче, чем каменные, я давно пришел к выводу, сделанному одним англичанином, упоминаемым Стендалем в его книге “Прогулки по Риму”. Этот англичанин въехал верхом в Колизей, увидел каторжан, укрепляющих стены, и сказал: “Честное слово, Колизей — лучшее, что я увидел в Риме. Это здание мне нравится. Оно будет великолепно, когда его закончат”.
Он не был далек от истины. Время и Пространство имеют свои внутренние законы, в которых элементы созидания и разрушения равно важны. Две великие конструкции принадлежат творчеству Всевышнего: Вавилонская башня и Лестница Иакова. Первую Сам разрушил, вторую Сам построил. В пространстве семи романов все эти реальные и воображаемые строения выступают несущими конструкциями в зодческой мастерской мира.
Сорок лет я прожил в бесконечно строящемся зодчими, называвшими себя лучшими в мире, здании будущего, которое уже первым камнем своего фундамента задавило душу человеческую и, скорее, походило на необозримую каменоломню. Но я и представить себе не мог, что это бесформенное, жестко скрепленное большой кровью сооружение, семьдесят лет рвущееся соревноваться с Вавилонской башней, рухнет в единый миг.
— Не кажется ли вам, что этот феномен связан с идеей о переселении душ?
— Одним из камней в основании главной книги иудейской Каббалы “Зоар” (Сияние) является закон переселения душ. Не изжившая свои грехи при жизни, душа мечется от одного края ада до другого его края, подобно камню из пращи Давида, сразившему великана Голиафа, пока не освободится от грехов, чтобы вселиться в новое живое существо. По моему же мнению, существует еще закон философского и словесного освоения мира. По этому закону одна и та же неприкаянная душа еще при жизни вселяется в разных людей, изживая себя в каждом из них по линии его судьбы, где господствует его величество Случай.
Я часто прихожу на берег моря. В ночь наступления нового тысячелетия я подумал о том, что жизнь — от мгновения ока до вечности — выразима лишь искусством и любовью. Это — два крыла жизненной тайны. На берег моря шум огромного города не долетал. Но было достаточно светло. Подобно мотыльку, то возникая, то растворяясь, белел парус одинокий. И опять давняя мысль не давала покоя: провалился ли действительно диковинный феномен с еще более диковинным названием “советская власть”, заполнивший нишу времени десятками миллионов невинных жертв, расстрелянных, умерших от голода, едва засыпанных землей в вечной мерзлоте. Не вернется ли? Самое большое чудо, что посреди той всеобщей гибели я остался жив.
На берегу моря два мира, сливаясь в слуховых извилинах, несут мою голову на плоском блюде пространства. Мир города, вращающего все свои колеса так, что слышен треск разрываемой ткани мировой жизни, и мир мечтателей и рыбаков на скалах, мир парусников, погруженных в тишину, очарованных далью. И все лучшее в нас обращено в это очарованное самим собой пространство.
— Мне почудилось, или все же в этих словах намек на новый роман?
— Примерное его название — “Рядно Ариадны”. Этот роман — дань абсолютному безвременью и по сей день рассекающей мир чумы под названием ГУЛаг — гул гибели вечной гряды смерти, сотворенной человеческими руками во имя “светлого будущего”.
Большей насмешки Дьявола, торжествующей над здравым смыслом, подброшенной им “роду людскому”, чтобы лишний раз доказать порочность, гнилой корень этого “рода”, быть не может. И различил это лишь один художник — Питер Брейгель — в своей гениальной картине, где слепцы, ведомые слепым вождем, движутся к определенной им “светлым будущим” — пропасти.
От Главного редактора:
Эфраим/Ефрем Ицхокович Баух родился 13 января 1934 года в городе Бендеры (Тигина). Его дед, Шлойме Хунович Баух, был хозяином магазина готовой одежды. Отец будущего писателя, адвокат Исаак Соломонович Баух, погиб на фронте под Сталинградом. В годы войны Ефрем с матерью оказались в эвакуации в Саратовской области. В 1944 году семья вновь вернулась в Бендеры. Здесь Ефрем Баух получил начальное религиозное образование у своего дяди-меламеда. Первое стихотворение опубликовал в бендерской газете «Победа» в 1952 году, регулярные публикации его стихов появились в конце 1950-х годов в журнале «Кодры» и газете «Молодёжь Молдавии».
После окончания в 1958 году геологического факультета Кишинёвского государственного университета, Ефрем работал инженером-геологом в Крыму и спелеологом в экспедиции на Байкале. По возвращении в Кишинёв стал журналистом в газете «Молодёжь Молдавии». В 1963 году вышел его сборник «Грани», а в 1964-м автор стал членом Союза писателей СССР. За первым сборником последовали поэтические книги «Ночные трамваи», «Красный вечер», стихотворения для детей и подростков «Превращения», книги для детей «Горошки и граф Трюфель» и «Путешествие в страну Гео». Ефрем Баух был составителем сборника молодых поэтов Молдавии «Весенние клавиши». В переводе Бауха с молдавского языка вышло несколько книг современных молдавских поэтов.
Позже Ефрем заведовал отделом литературы и искусства в газетах «Молодёжь Молдавии» и «Вечерний Кишинёв». Окончил Высшие литературные курсы Союза писателей СССР при Литературном институте имени А. М. Горького, работал на киностудии Молдова-филм.
С 1977 года Ефрем Баух — в Израиле. Здесь вышли книга стихов «Руах» и романы из семилогии «Сны о жизни»: «Кин и Орман», «Камень Мория», «Лестница Иакова», «Оклик», «Солнце самоубийц». Шестой роман «Пустыня внемлет Богу» вышел в Москве, седьмой и последний — «Завеса» — в Тель-Авиве. Большинство прозы писателя переведено на иврит, иногда — им самим. С иврита на русский язык Баух перевёл прозу и поэзию многих израильских авторов, а с русского на иврит — произведения Евгения Евтушенко, Беллы Ахмадулиной, Андрея Вознесенского, Евгения Рейна, Бориса Пастернака, Геннадия Айги. Ефрем Баух издал полный трёхтомный русский перевод с арамейского каббалистической книги Зоар. Роман Бауха «Лестница Иакова» на иврите был удостоен впервые учреждённой премии президента Израиля по литературе (2001).
В 1981 году Ефрем возглавил Союз русскоязычных писателей, а в 1994-м — уже Федерацию Союзов писателей Израиля. Баух был избран президентом израильского отделения международного ПЕН-клуба, в начале 2000-х — председателем Объединения землячеств выходцев из Молдовы в Израиле.