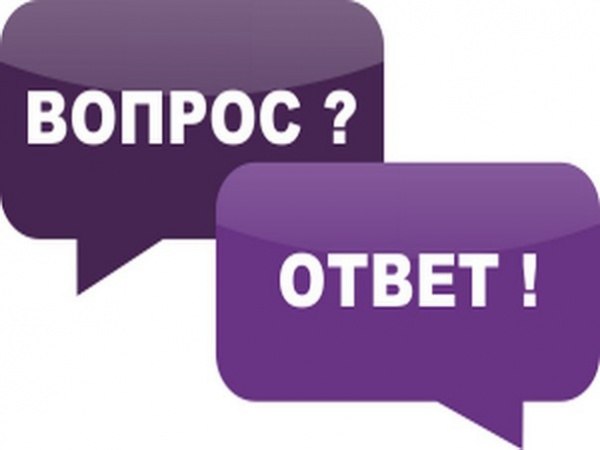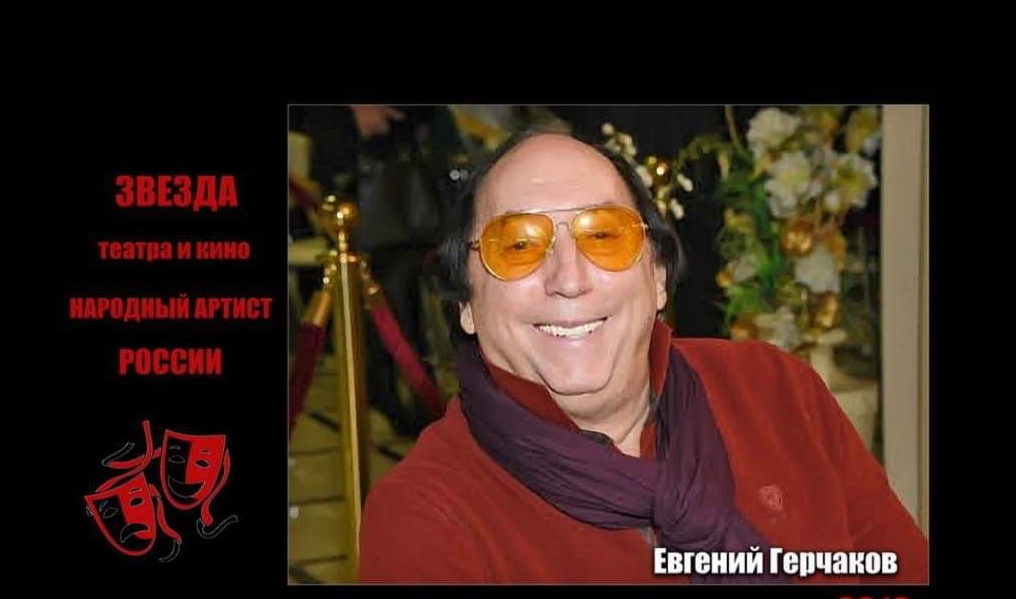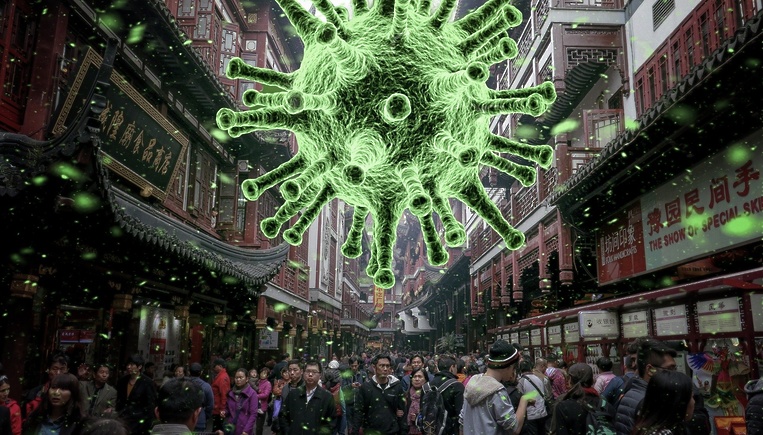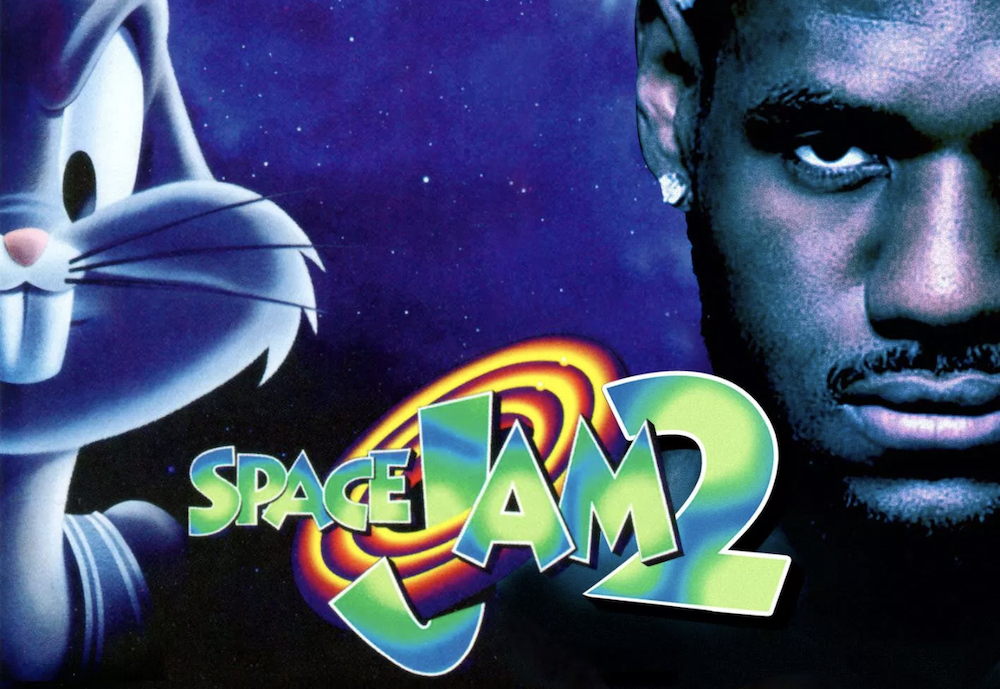Борьба миров: что выбрать — контроль или независимость?
.

На глобальной карте мира нейтральных зон остаётся всё меньше. Линия противостояния проходит сегодня не между Западом и Востоком, не между идеологиями XX века, а между двумя моделями существования — глобалистской архитектурой управления и формирующимся антиглобалистским сопротивлением. Это не пропагандистское противостояние и не война лозунгов. Речь идёт о структурной конфигурации мира: кто и как принимает решения, кто определяет нормы, и какую цену за это платят государства и их граждане.
Глобализм — не просто интеграция или торговля, это — система организации мира, при которой суверенитет отдельных государств подчиняется глобальным нормам, утверждаемым через наднациональные институты, соглашения, стандарты и механизмы контроля. Это не заговор и не закрытая элита, а функционирующий порядок, где роль парламента заменяется директивой национального законодательства — международным правом, а политических решений — экономическими метками, рейтингами, квотами.
Ключевые механизмы этого порядка — регуляторные и инвестиционные структуры, платформы нормотворчества и контроля. Всемирный экономический форум в Давосе (WEF), МВФ, Всемирный банк, Банк международных расчётов в Базеле, Европейская комиссия в Брюсселе, ООН и её агентства в Женеве, штаб-квартиры в Вашингтоне, Нью-Йорке, Лондоне, Франкфурте и Париже. Ключевые участники — финансово-инвестиционные гиганты BlackRock, Vanguard, State Street, JPMorgan, транснациональные платформы Google, Microsoft, Meta, Amazon, а также фонды с долгосрочной стратегией влияния — Open Society Foundations, Gates Foundation, Bloomberg Philanthropies.
Смысл глобалистской системы — в упорядочивании процессов: глобальной торговли, информации, логистики, цифровых финансов, климата, миграции. Но для этого ей необходима предсказуемость и подчинённость территорий. Когда государство начинает самостоятельно регулировать энергетику, суды, культурную политику, рабочие условия, интернет или капитал — оно выходит за пределы допустимого. С точки зрения глобалистского подхода, это создаёт «риски» и требует «реинтеграции». Так возникают внешние программы реформ, санкционные механизмы, «глобальные принципы» и рейтингование соответствия.
В основе глобализма — идея, что единый мир эффективнее, чем множество самостоятельных игроков. Это даёт контроль над потоками, снижает риски, позволяет выстраивать транснациональные цепочки и централизованно управлять потреблением. И это никто не скрывает. Но ценой этой эффективности становится ограничение политической автономии, культурной идентичности и суверенного выбора.
Не все государства готовы согласиться с этим. Причины отказа — разные. Некоторые страны не могут встроиться в глобальную систему без потери своей экономической базы. Другие сохраняют иную культурную или правовую традицию. Третьи не готовы передавать функции принятия решений внешним структурам. Идеология может быть разной, но реакция — общая: отказ следовать модели, в которой национальное решение считается вторичным.
Именно так формируется вторая система. Она не оформлена институционально, не имеет общего центра, но выражает альтернативу. И выбор между этими системами — не моральный и не политический, а тот, который делает каждое общество, исходя из собственной истории, культуры, экономического положения и политической зрелости. Глобализм и антиглобализм — не «добро» и «зло», а два способа существования в XXI веке. Один предлагает стабильность, управляемость, доступ к ресурсам. Второй — риски, автономию и возможность принятия решений внутри страны.
Государства, которые выбирают второй путь, действуют по-разному.
Китай участвует в международных форумах, но сохраняет полный государственный контроль над инфраструктурой, информацией и финансами. Он использует элементы глобализма, но не подчиняется его нормам.
Индия действует как независимый игрок, не принимая ESG-повестку (подход к ведению бизнеса с акцентом на экологию, социальные аспекты, корпоративное управление) и отказываясь от климатических ограничений, которые угрожают её внутреннему развитию.
Иран ведёт автономную внешнюю политику, опираясь на внутреннюю идеологию и отказ от внешней зависимости.
Турция, Саудовская Аравия, Бразилия, Южная Африка, Никарагуа, страны Сахеля демонстрируют разный уровень дистанции от глобального центра. Кто-то — по линии безопасности, кто-то — по культуре, кто-то — по экономике.
Израиль занимает особое положение. Это государство, которое, несмотря на тесные связи с Западом, действует строго в интересах своей национальной стратегии. Оно сотрудничает с транснациональными структурами, но никогда не передаёт им контроль над армией, спецслужбами или технологическим суверенитетом. Израиль — редкий пример государства, встроенного в международную архитектуру, но не растворённого в ней.
Россия, после 2022 года, оформила окончательный разрыв с глобальной системой. Прекращение участия в европейских институтах, запрет работы западных НКО, отказ от ESG-стандартов, разворот к внутренней экономике и альтернативным партнёрам — всё это стало реакцией на попытку навязать внешние нормы. При этом Россия пока не сформировала институциональную альтернативу, способную стать моделью для других. Но её выход из глобалистской модели стал отправной точкой для переоценки выбора во многих странах, прежде всего, в зоне постсоветского пространства, Африки, Латинской Америки и Азии.
Отношение к этим государствам в западных СМИ и структурах почти всегда сопровождается определениями: «авторитарные», «антидемократичные», «проблемные». Это — часть информационного сопровождения глобалистского подхода. В действительности, многие из этих стран просто выбрали иную структуру управления, не совпадающую с предложенной извне. Этот выбор не является преступлением. Он может быть ошибочным, может быть успешным, но это — выбор, за который ответственность несут не наднациональные органы, а сами граждане этих стран.
Сегодня именно этот выбор становится ключевым — не между демократией и диктатурой, открытостью и изоляцией, а между управляемой глобальной системой с внешними правилами и правом на локальное решение, каким бы рискованным оно ни было. Этот выбор нельзя делегировать, его нельзя отложить, он уже происходит — в кабинетах, на выборах, в конфликтах, в экономических стратегиях. Мир больше не движется к единству, а движется к разделению. И понимание природы этого разделения — первый шаг к осмысленному выбору.
Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу: важные новости, аналитика и инсайды!

Хотите поддержать изменения к лучшему в вашей стране? Участвуйте в них вместе с нами! Вы можете внести свой вклад в независимую журналистику.