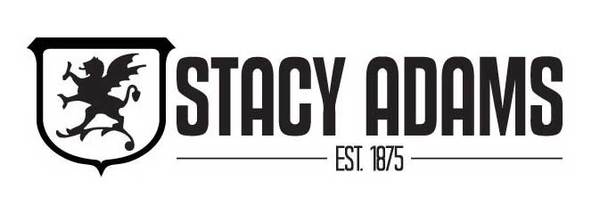Джурджулешты — модернизация или уступка?
.

Румынский министр транспорта сообщил, что предложение Бухареста по сделке вокруг Международного свободного порта Джурджулешты «принято». Речь идёт о заявлении Сорина Гриндяну, сделанном 11 ноября на брифинге в румынской столице. По его словам, «все технические детали согласованы, остаётся лишь завершить юридическую процедуру подписания». Пока опубликованных документов о финальном согласовании условий нет, а, значит, именно сейчас есть последняя возможность трезво оценить последствия и зафиксировать, чего Молдова добивается, и на каких условиях готова это получать.
История этого узла довольно длинная, и о ней мы неоднократно писали. В конце 2004 года, при президенте Владимире Воронине и премьер-министре Василе Тарлеве, правительство подписало инвестиционное соглашение, положившее начало Международному свободному порту Джурджулешты. Земля в контуре порта была передана частным структурам в долгосрочную аренду на девяносто девять лет, а сам порт получил особый режим. В 2005 году парламент принял Закон № 8-XV «О Международном свободном порте „Джурджулешты“, который установил действие режима на двадцать пять лет — до 2030 года.
Первыми деньгами и риском этот проект подпитали структуры азербайджанского капитала: без их «стартового топлива» порта как такового могло и не быть. Позже управление перешло к компании Danube Logistics SRL, а в 2021 году единственным владельцем оператора стал Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Согласно официальному сообщению ЕБРР, покупка компании была направлена на «стабилизацию управления стратегическим активом до привлечения профильного инвестора». Уже ЕБРР запустил международный процесс продажи оператора стратегическому инвестору, и в финале предпочтение отдано государственной компании «Администрация морских портов Констанцы» из Румынии.
Важно чётко понимать условия. Речь идёт не о «продаже молдавской территории», а о смене владельца частной компании-оператора, работающей в установленном законом режиме. Государственный порт Джурджулешты остаётся собственностью Республики Молдова, земельные участки — государственное имущество в долгосрочной аренде, экологические, трудовые, таможенные и иные публичные функции — в компетенции молдавских органов. Ключ к будущему — срок и содержание свободного режима: он заканчивается в 2030 году и может быть продлён только решением Молдовы. Румынская сторона публично просит гарантии эксплуатации и после 2030-го. По данным агентства Moldpres, вопрос продления рассматривается Советом по инвестициям, важным для безопасности государства, который уже обозначил необходимость «чётко зафиксировать параметры контроля и надзора». Это и есть предмет настоящих переговоров: на каких условиях Молдова согласится продлить льготы, чтобы не потерять больше, чем приобретёт.
Аргументы «за» приход сильного оператора понятны. Джурджулешты — единственный выход страны к Дунайско-Черноморскому коридору. От его пропускной способности зависят экспорт агропродукции, импорт топлива и устойчивость критической связки поставок. По информации Reuters, румынская «Администрация морских портов Констанцы» уже реализует программу расширения причалов и контейнерных мощностей Констанцы, позиционируя порт как региональный логистический хаб, что делает участие в управлении Джурджулештами частью общей стратегии развития транспортного коридора Восток–Запад. Предложенная румынской стороной программа модернизации — причалы, контейнерная составляющая, железная дорога, склады, цифровизация — обещает превратить порог в настоящую дверь. Синхронизация с портом Констанца сулит предсказуемость графиков и снижение издержек транзита. С точки зрения управления рисками, это выглядит как страховка от одиночных сбоев: если у Молдовы ломается дорога или перегружен погранпереход, порт не должен превращаться в бутылочное горлышко. Но именно здесь начинается расчёт «против».
Продление свободного режима — это не абстракция, а конкретные выпадающие доходы бюджета и ограничение манёвра государства по перепрофилированию площадки. Фактически, Молдова замораживает часть налоговой базы в обмен на обещанную модернизацию и бóльшую пропускную способность. Есть и политэкономический риск: государственная компания соседней страны становится оператором ключевого молдавского узла. Если договорные параметры не будут жестко прописаны, «коридор» может подстраиваться под интересы внешнего порта-ядра, а не под потребности молдавских производителей и перевозчиков.
Ещё один чувствительный момент — справедливость к тем, кто вкладывал деньги в нулевые. Азербайджанский капитал фактически нес ранние риски проекта. Тот факт, что на финишной прямой его нет — напоминание, что Молдова должна беречь конкуренцию и прозрачность доступа, не допуская «закрытых клубов» вокруг стратегических активов.
Практический вопрос не в том, «быть или не быть» сделке, а в том, как защитить молдавские интересы в её контрактной архитектуре. Продлевать — только на осознанных условиях.
Во-первых, любой «пост-2030» режим должен быть ограничен по времени и привязан к измеримым показателям эффективности: годовым объёмам перевалки, доле контейнеризации, времени оборота судов и вагонов, доступности мощностей для резидентов Молдовы, уровню тарифной прозрачности.
Во-вторых, в соглашения необходимо встроить механизмы принудительного пересмотра — право государства ускоренно ревизовать условия в случае невыполнения инвестпрограммы или ухудшения доступа для молдавских грузоотправителей.
В-третьих, обязательны недискриминационные тарифы и гарантированные «окна» для критически важных грузов — топлива, зерна, удобрений — с приоритетом для потребностей молдавского рынка в пиковые периоды.
В-четвёртых, регуляторный надзор должен оставаться не на бумаге: от экологических стандартов до контроля концентрации и защиты конкуренции.
Суверенная свобода действий у Молдовы есть. Продление режима свободного порта возможно только законом, а не пунктом в частной сделке. Совет по рассмотрению инвестиций, важных для безопасности государства, уже показал, что государство готово задавать рамки для инвестора. И именно государство вправе потребовать от покупателя открытых обязательств: по объёму и календарю вложений, по локализации услуг, по технологической и кадровой политике, по публикации тарифов и статистики.
Отдельная задача — не потерять уроки прошлых лет: ранние участники проекта и альтернативные претенденты должны видеть, что доступ к активу обеспечивается через конкуренцию, а не через политические коридоры.
Что Молдова выигрывает и что теряет? При грамотной настройке условий страна получает модернизированный порт, устойчивую логистику, лучшую связку с морем и снижение рисков для экономики в периоды потрясений. Цена — продление льготного режима и возможное сужение пространства для манёвра, если KPI и право государства вмешиваться не будут прописаны в договоре.
Необходимость состоит в том, что без очередного инвестиционного цикла порт Джурджулешты упрётся в предел мощности, а это неминуемо ударит по кошельку граждан и конкурентоспособности экспорта. Но выгода не обязана быть в «чужую пользу». Она должна быть рассчитана, зафиксирована и защищена молдавскими институтами.
Переговоры с Бухарестом — повод не для аплодисментов, а для последней, самой жёсткой проверки условий. Продление режима — только за результат. Инвестор — только под измеримые обязательства. Тарифы и доступ — только на принципах справедливости и прозрачности. Право Молдовы — вмешаться, если обещанное не выполняется. Так выглядит не «уступка» и не «продажа», а взрослое управление единственным выходом Молдовы к морю.
Хотите больше? В нашем Telegram-канале — темы под грифом «не для всех»: нестандартные ракурсы, дополнительные материалы и аналитика без купюр.

Хотите поддержать изменения к лучшему в вашей стране? Участвуйте в них вместе с нами! Вы можете внести свой вклад в независимую журналистику.