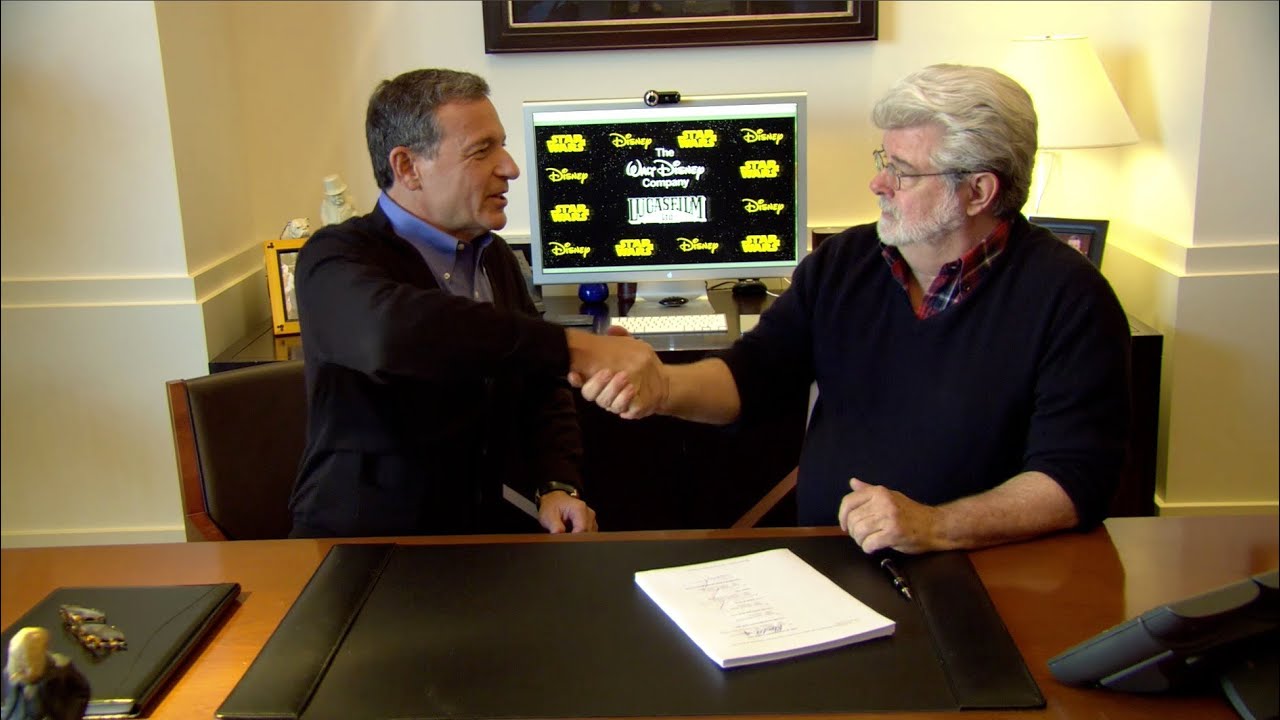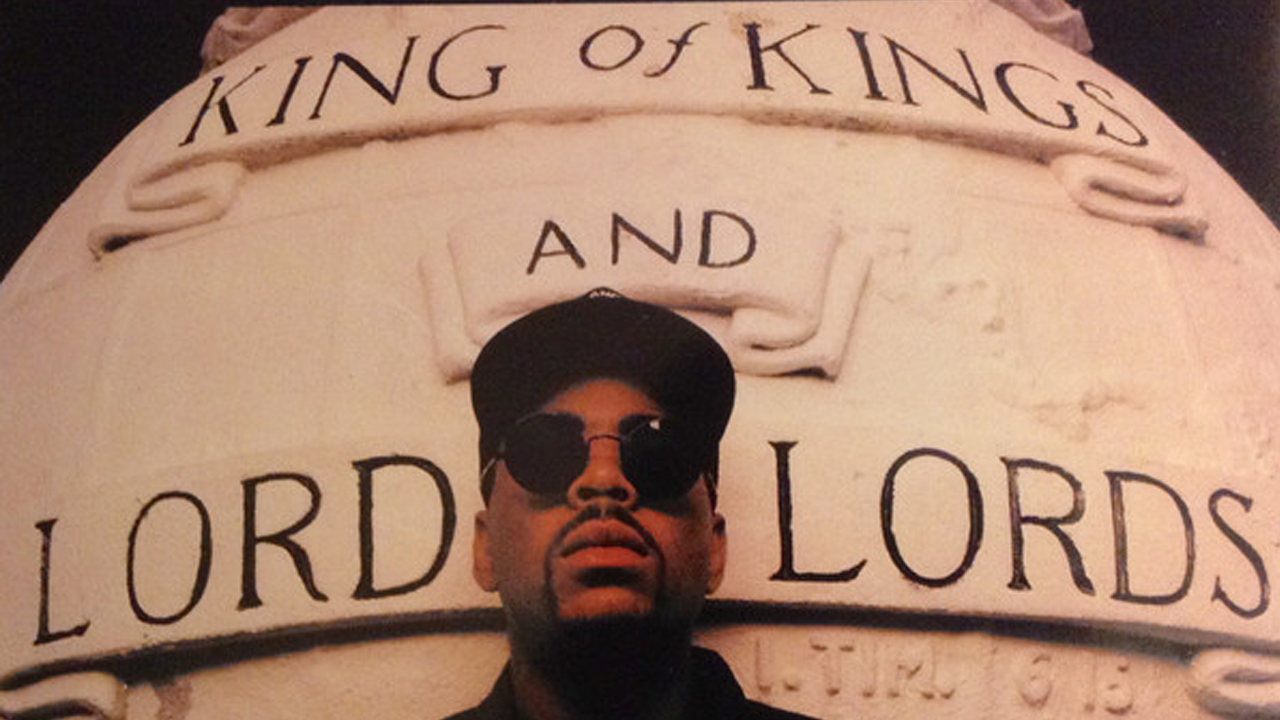Грузия и европейский вектор: грань между политикой и принципами
.

Политическая эволюция Грузии стала испытанием для всей Европы, считает эксперт. От исхода этого кризиса зависит не только судьба страны, но и будущее восточного партнерства ЕС.
С момента обретения независимости Грузия неизменно двигалась к европейской и евроатлантической интеграции. Этот курс, пусть и по-разному интерпретируемый разными лидерами, десятилетиями оставался стратегической целью, объединявшей общество. Однако сегодня страна стоит у опасной черты — между авторитарным дрейфом и шансом на возрождение демократии.
От курса на Европу — к изоляции
Когда европейские партнёры потребовали от Тбилиси реальных реформ — в судах, следственных органах и избирательной системе — правящая партия «Грузинская мечта» (ГМ) восприняла это не как стимул, а как угрозу. Для её лидера Бидзины Иванишвили независимость институтов означала утрату контроля. Отсюда, шаг за шагом, началось отступление от западного курса. После вторжения России в Украину всё стало очевидно: «Грузинская мечта» превратилась из формального партнёра Запада в фактического союзника Москвы.
Весной 2023 года попытка принять закон «об иноагентах» вызвала массовые протесты, но, несмотря на волну демонстраций 2023–2024 годов, власть продавила закон и сохранила контроль. Последней каплей стало ноябрьское заявление 2024 года о выходе страны из процесса европейской интеграции, и Грузия погрузилась в самый масштабный политический кризис за десятилетие.
Сопротивление без лидеров
Протестное движение, начавшееся 28 ноября 2024 года, стало уникальным явлением. У него нет лидеров, штабов и партийных лозунгов — лишь мощная самоорганизация и солидарность граждан. За год протесты превратились в главный фактор внутренней и внешней повестки страны, поддерживая высокий уровень общественной мобилизации и взаимной поддержки.
Несмотря на репрессии, аресты и давление, власти не смогли ни легитимировать, ни стабилизировать своё положение. Грузинское общество показало, что моральная стойкость может стать последним бастионом демократии, когда государственные институты уже парализованы. Но «Грузинская мечта» не сдаётся: режим усилил пропаганду, блокирует независимые СМИ, закрывает гражданские организации и готовит юридическую базу для запрета оппозиционных партий. Грузия всё более напоминает авторитарные государства постсоветского пространства, где власть держится на страхе и дезинформации.
Ошибки оппозиции
4 октября 2025 года стало поворотным моментом: оппозиция упустила шанс использовать муниципальные выборы как площадку для консолидации. Ни бойкот, ни участие не принесли результатов. Вместо объединения политические силы вступили во взаимные конфликты, ослабив протест и подарив власти передышку.
В это время «Грузинская мечта» объявила о «триумфе демократии» и начала новую волну репрессий. Несколько оппозиционных партий оказались под угрозой запрета, а ведущие активисты — под следствием. Так называемая «мирная революция» не состоялась. Но в глубине общества сохраняется энергия сопротивления, именно она сегодня определяет будущее Грузии.
В поисках новой стратегии
Перспективы быстрого перелома крайне невелики. Протестное движение нуждается в стратегии, рассчитанной на средне- и долгосрочную перспективу: в переосмыслении ошибок, координации действий и формировании единого информационного фронта против пропаганды. На данный момент ни одна партия, ни один лидер не обладает достаточными ресурсами, чтобы стать центром притяжения для общества. В этих условиях путь к переменам лежит через новый формат консолидации — не в форме единой партии, а через постоянную консультативно-координационную платформу.
Президент Саломе Зурабишвили, оставаясь относительно нейтральной фигурой, способна возглавить процесс объединения политических и гражданских сил. Речь не идёт о формальном блоке — скорее, о гибкой, адаптивной структуре, объединяющей партии, гражданские инициативы и профессиональные сообщества. Главная цель — восстановление доверия между обществом и политикой, формирование новой повестки, в которой европейский выбор будет не лозунгом, а конкретной программой действий.
Грузия стоит перед историческим выбором. Или страна окончательно утратит демократические ориентиры и превратится в очередное «постсоветское княжество» с авторитарным правлением, или найдет в себе силы для нового объединения, которое вернет её в европейское пространство. В этом смысле протест не проиграл. Он сохранил самое главное — дух свободы, внутреннюю солидарность и веру в то, что история Грузии ещё не закончена.
Димитри Цкитишвили (Dimitri Tskitishvili),
политик, эксперт, основатель и член совета Грузинского прогрессивного форума (Georgian Progressive Forum), экс депутат парламента Грузии, вице-председатель Комитета по иностранным делам
От редакции:
Кризис в Грузии стал зеркалом противоречий, накопившихся между властью, оппозицией и западными партнёрами. Формально речь идёт о борьбе за демократию и европейский курс, но на практике — о борьбе за влияние, ресурсы и право определять внутреннюю повестку страны.
Резкая риторика ЕС и части дипкорпуса, в том числе публичные заявления отдельных послов, которые поддерживали протесты, воспринимается Тбилиси как вмешательство. Это действительно создаёт ощущение политического давления и подталкивает часть общества к антиевропейским настроениям. Однако игнорировать запрос на реформы власти тоже не могут — иначе утратят доверие союзников и собственных граждан.
При этом стоит отметить конкретные факты, на которых строятся взаимные обвинения. В 2025 году премьер-министр Ираклий Кобахидзе и руководство партии «Грузинская мечта» открыто критиковали посла ЕС в Тбилиси Павла Герчыньски, утверждая, что дипломат «поощряет протестующих» и «вмешивается во внутренние дела». В ответ Брюссель и сам Герчыньски подчёркивали, что это необоснованные нападки. Ранее ЕС заморозил 30 млн евро помощи из Европейского фонда мира и в 2024 году предупредил о возможных санкциях, если Грузия не откажется от закона об «иностранных агентах». Осенью 2025 года в отчёте по расширению Еврокомиссия зафиксировала регресс демократических стандартов, а Венецианская комиссия Совета Европы опубликовала жёсткое заключение о рисках для свободы слова. Таким образом, обе стороны действуют в рамках официальных мандатов, но тон переписки и публичные оценки приобрели форму взаимного давления.
Политическая динамика в Грузии демонстрирует не столько «авторитарный дрейф», сколько кризис взаимного доверия: власть боится внешнего навязывания, оппозиция — внутренней узурпации, а партнёры в ЕС — утраты последнего демократического партнёра на Южном Кавказе. В этих условиях задача дипломатии — не наращивать давление, а возвращать стороны к диалогу и поиску правовых механизмов выхода из кризиса.
Реальные риски сегодня связаны не с выбором «Запад или Восток», а с тем, что политическое противостояние может окончательно вытеснить смысл самого понятия «демократия». Для Грузии и Европы сейчас важнее восстановить институциональный баланс, чем искать очередного виновного.
Хотите больше? В нашем Telegram-канале — темы под грифом «не для всех»: нестандартные ракурсы, дополнительные материалы и аналитика без купюр.

Хотите поддержать изменения к лучшему в вашей стране? Участвуйте в них вместе с нами! Вы можете внести свой вклад в независимую журналистику.